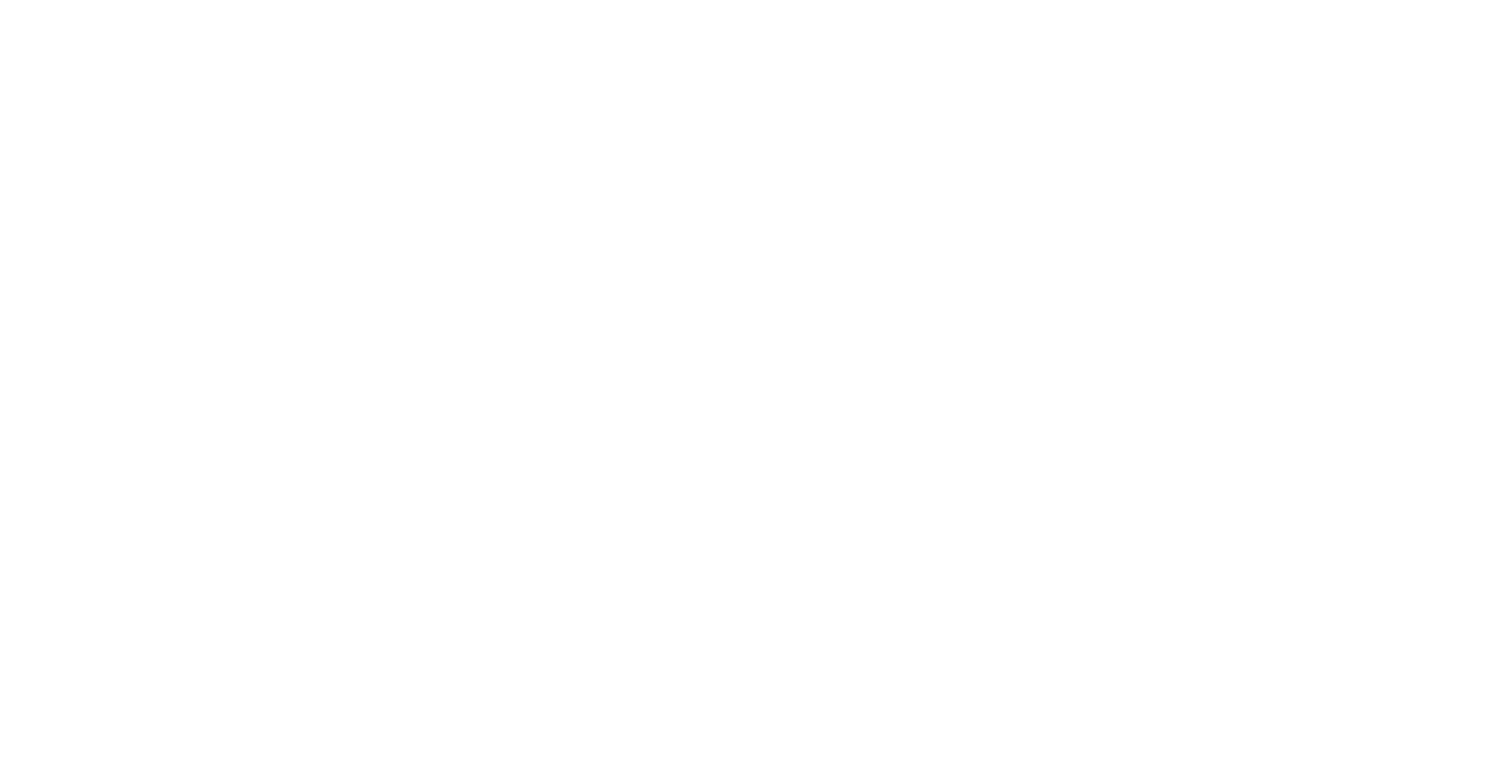Yuri Vinogradov
Autoaesthetics
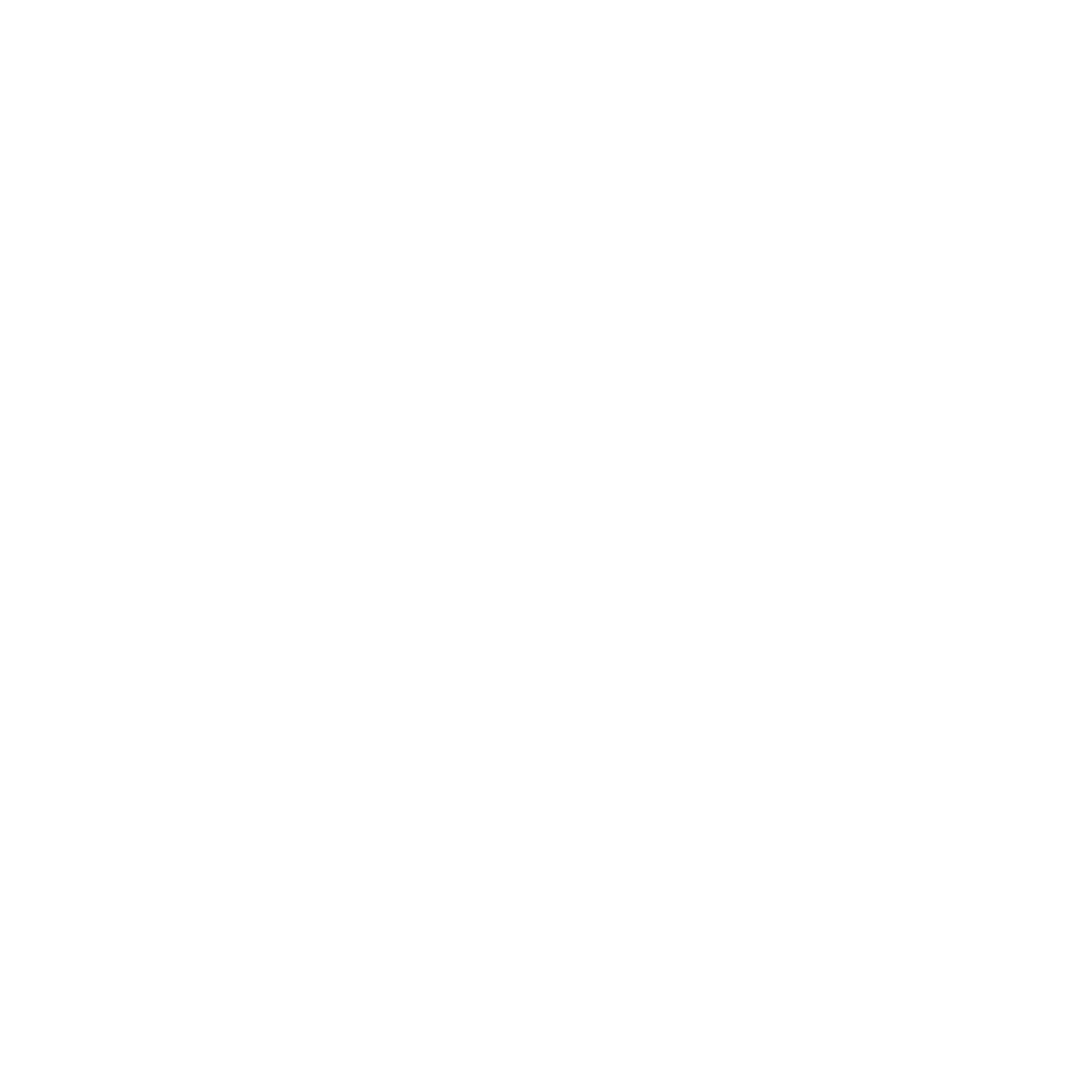
Этот альбом представляет собой сборник пьес из рубрики Аутоэстетика, которую Юрий ведет в социальных сетях проекта Outsiderville, а также некоторых иных пьес, как вдохновленных поэзией и визуальным артом, так и самостоятельных. Аутоэстетика - художественно-критический проект Юрия Виноградова и Outsiderville. С помощью текста, истории философии и собственной музыки Юрий интерпретирует искусство резидентов проекта и пытается найти ему место в истории живописи и культуры. Составной частью альбома, столь же важной, как и сама музыка, являются тексты рубрики, посвященные работам художников проекта. Прочитать их вы можете на этой странице далее.
Пьесы альбома выполнены в русле аутоэстетической концепции творчества. Такая философия утверждает, что искусство самодостаточно и является глубочайшей формой проявления человеческой природы. Творчество в искусстве оказывается способом помнить, что сама жизнь и человеческий повседневный язык — высшая и вездесущая форма творчества. Искусство и творчество сопротивляются превращению жизни и бытия в ресурс, в прикладную конкретность; жизнь безгранична и не имеет цели, так как всякая цель конкретна и ограничена, она меньше жизни, является её частью. Если жизнь всеохватывающа, как можно помыслить что-то, что находиться извне по отношению к ней? Есть лишь беспредельное и бесформенное настоящее, сущее, охватывающее все мыслимое и воспринимаемое. Искусство как пример самоценной деятельности таким образом оказывается упражнением в искусстве жизни как высшего и наиболее всеобщего процесса.
Этот альбом — своеобразный компендиум современных фортепианных техник, энциклопедия стиля Юрия Виноградова как импровизатора и композитора. От псевдораги Starless Sea до ностальгической пьесы, посвященной Саре Герцман и её искусству, от moto perpetuo пьесы, посвященной графике Михаила Ардашникова, до алеаторического беспокойства In the Search of Constancy — музыка захватывает широкий диапазон образов и смыслов. По методу создания это совершенно спонтанная музыка, свободная импровизация без заранее заготовленных тем, мелодий, гармоний — чистое и незамутненное музыкальное здесь-и-сейчас.
"Как птицы поют и порхают в небе, художники-аутсайдеры рисуют, создают музыку, пишут стихи, превращают свою собственную жизнь в живописное полотно. Границы между творчеством и трудом оказываются стертыми, и я вижу в этом не желание самообмана и самоуспокоения перед лицом жестокого и несправедливого мира, но отвагу и пример для прочих. Искусство аутсайдеров, самоучек, дилетантов ценно оттого, что оно освобождает деятельность человека для непосредственности, для свободы, для радости труда. С помощью поэзии звуков, красок, слов художники-аутсайдеры осуществляют саму человеческую природу, которая состоит в преобразовании природы материальной. Чуждая, равнодушная, инертная природа вещей и явлений оплодотворяется образами и смыслами не ради выживания и идеологической поддержки властных институций, но из естественного движения души".
Больше музыки Юрия Виноградова:
https://yurivinogradov.bandcamp.com/
https://ellektrajazz.bandcamp.com/
Телеграм-канал Юрия о современной академической и классической музыке:
https://t.me/classic_mechanics
Ссылки на другие творческие проекты Юрия Виноградова:
https://taplink.cc/orpheus_in_hell
Послушать музыку и поддержать наш лейбл и Юрия Виноградова вы можете на нашем Bandcamp.
Аутоэстетика: творчество художников проекта в контексте истории и философии
Введение в рубрику Аутоэстетика: манифест аутсайдерского искусства.
Аутсайдерская музыка — это прежде всего опыт изолированного, обособленного субъекта, ищущего опору в себе и творчестве, опыт человеческого самосозидания, опыт стойкости и сопротивления; такой опыт драгоценен и важен для каждого, кому посчастливилось жить.
Некоторые люди своей деятельностью будто бы предвосхищают общественные реалии будущего — они живут так, как если бы идеалы являлись не только лишь вдохновляющей и направляющей нашу сознательную деятельность и долг грёзами. Художники-аутсайдеры, преимущественно самоучки, выключенные из профессионального сообщества, зачастую занимаются творчеством из некоторой одержимости, мании; творчество является их внутренней необходимостью, для него у них нет иных побуждений, кроме желания и вдохновения. Охваченность письмом, его настоятельной необходимостью приводит к тому, что произведения их искусства часто имеют характерные признаки: отсутствие целостности, проекта, который бы объединял все разрозненные элементы в монолитное единство, стабильность и повторяемость символов, кажущееся отсутствие развитие техники, мозаичность. Впрочем, эти черты, которые сами по себе имеют определенную привлекательность, так как раскрывают уникальный опыт, не свойственны всем "наивным художникам", художникам-самоучкам или художникам-аутсайдерам. Общим местом является то, что их творчество не встречает широкого признания. Они не зарабатывают символических — признания, уважения, власти — и финансовых капиталов. В лучшем случае такие художники известны, так как плоды их сознания подаются как некая скандальная и пряная экзотика, нечто чуждое и выпадающее из нормального порядка, что, конечно, затемняет и искажает суть их искусства.
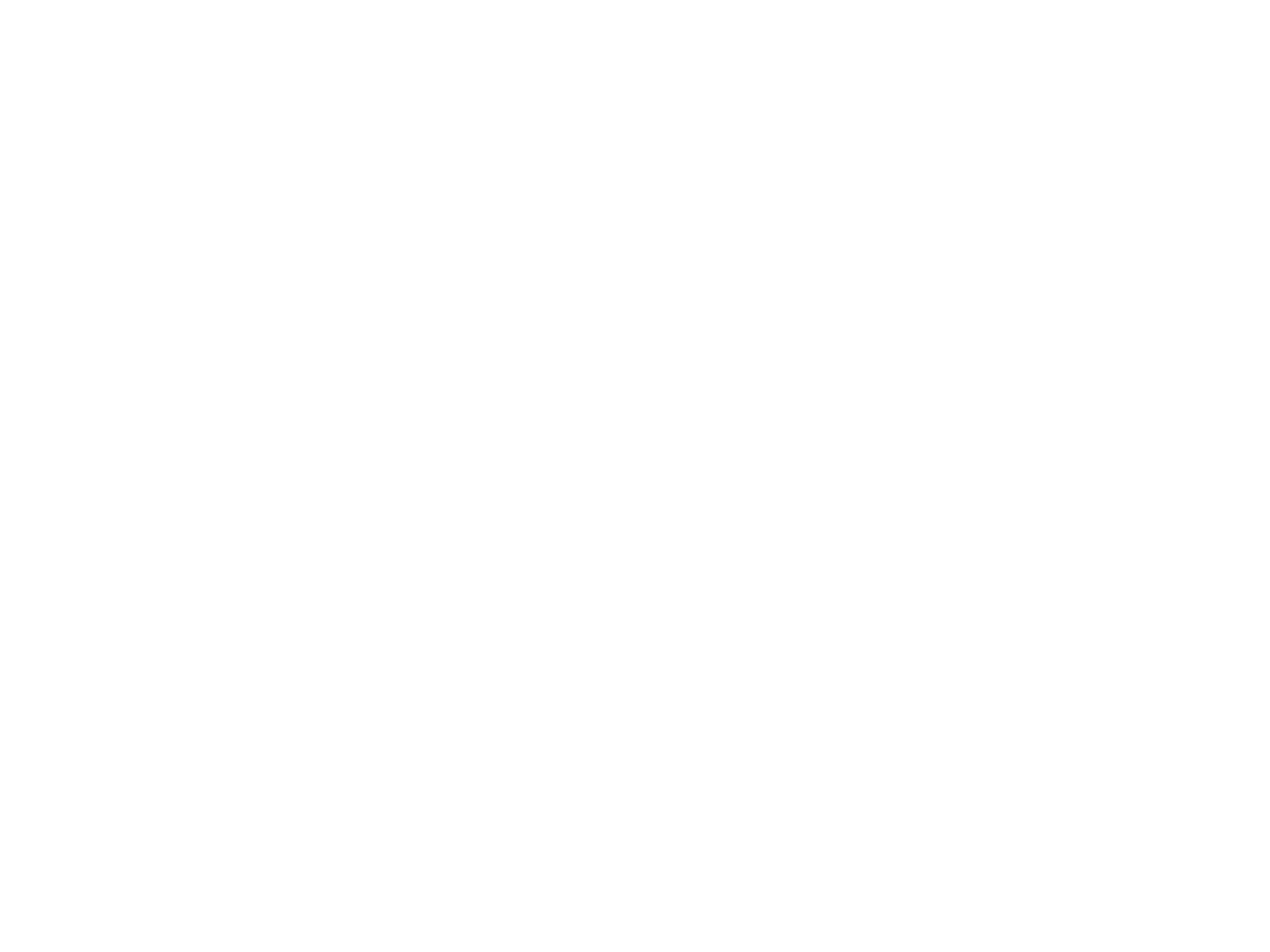
Аутоэстетика: Ярослав Кудряшов
Если произведения искусства могут быть истинными, то их истинность совсем другого рода, нежели истинность научной теории или высказывания о фактах. Эта истинность — не соответствие модели данным или высказывания некой предполагаемой и якобы данной в ощущениях объективной реальности. Истинность произведения искусства — это скорее интуитивное ощущение, чувство убедительности того мира, который создается в творческом акте. Мир произведения искусства может быть совершенно фантастическим, в нем может нарушаться привычная нам логика, он может быть подобен разорванному сну, но при этом его убедительность может создавать эффект присутствия. Когда произведение искусства становится Вещью, неоспоримым присутствием Иного, тогда оно может, полагаю, называться истинным. Впрочем, искусство способно быть истинным и в другом смысле — оно способно тонко и верно передавать нюансы субъективных переживаний, для которых еще и не создано подходящего языка.
Картины Ярослава Кудряшова, вероятно, тот случай, когда именно хочется говорить об истинности искусства. Речь не о правдивости, не о некотором остросоциальном реализме, напротив, его искусство далеко от этого. Если художник и изображает нечто точно и правдиво, то это отнюдь не факты истории и социальной борьбы, но всеобщие динамики субъективного переживания. В момент, когда человек наиболее сомневается в собственном мире и ощущениях, в момент дереализации, призрачных ощущений, мир открывается нам как плотное, непроницаемое, замкнутое, массивное тело, неоспоримое существование, как судьба, как фатум.
Картинам художника свойственна цельность, непосредственность и острота субъективного переживания, переживания существования как порыва, как головокружительного падения, как катастрофического столкновения с вещами. В его смутных образах — сырая, неогранённая метафизика, такая, которую мы можем найти, скажем, у философов-доплатоников ионийской школы, у Гераклита, Анаксимандра, Фалеса, Анаксагора. В некотором смысле, его картины — это своеобразный портрет сумрачной природы, изображение её творящей силы, способной рождать присутствие. Слезы вещей, lacrimae rerum; кажется, что сами вещи, их поверхности, их цвет, форма источают реальность как некий ликвор, будто железа порождает секрет. И картины Ярослава Кудряшова будто бы написаны не красками, но самой эссенцией существования.
На картинах художника практически нет людей или других живых существ — на них зритель встречается напрямую с миром и его тысячеликой загадкой, без страховки, без дружественного и поддерживающего касания. Пойманные в ловушку деятельности, в заботах, мы забываем о том, что ЕСТЬ мы, и ЕСТЬ мир. В забвении бытия мы радуемся, печалимся, работаем, творим, живем повседневной жизнью. И явление существования, момент интенсивного переживания реальности приходит к нам неожиданно, как разрыв в пелене облаков, как молния в полночь. И именно этот момент, пугающий и завораживающий, убедительно и на свой лад истинно изображает и создаёт в своем искусстве Ярослав Кудряшов.
Картины Ярослава Кудряшова, вероятно, тот случай, когда именно хочется говорить об истинности искусства. Речь не о правдивости, не о некотором остросоциальном реализме, напротив, его искусство далеко от этого. Если художник и изображает нечто точно и правдиво, то это отнюдь не факты истории и социальной борьбы, но всеобщие динамики субъективного переживания. В момент, когда человек наиболее сомневается в собственном мире и ощущениях, в момент дереализации, призрачных ощущений, мир открывается нам как плотное, непроницаемое, замкнутое, массивное тело, неоспоримое существование, как судьба, как фатум.
Картинам художника свойственна цельность, непосредственность и острота субъективного переживания, переживания существования как порыва, как головокружительного падения, как катастрофического столкновения с вещами. В его смутных образах — сырая, неогранённая метафизика, такая, которую мы можем найти, скажем, у философов-доплатоников ионийской школы, у Гераклита, Анаксимандра, Фалеса, Анаксагора. В некотором смысле, его картины — это своеобразный портрет сумрачной природы, изображение её творящей силы, способной рождать присутствие. Слезы вещей, lacrimae rerum; кажется, что сами вещи, их поверхности, их цвет, форма источают реальность как некий ликвор, будто железа порождает секрет. И картины Ярослава Кудряшова будто бы написаны не красками, но самой эссенцией существования.
На картинах художника практически нет людей или других живых существ — на них зритель встречается напрямую с миром и его тысячеликой загадкой, без страховки, без дружественного и поддерживающего касания. Пойманные в ловушку деятельности, в заботах, мы забываем о том, что ЕСТЬ мы, и ЕСТЬ мир. В забвении бытия мы радуемся, печалимся, работаем, творим, живем повседневной жизнью. И явление существования, момент интенсивного переживания реальности приходит к нам неожиданно, как разрыв в пелене облаков, как молния в полночь. И именно этот момент, пугающий и завораживающий, убедительно и на свой лад истинно изображает и создаёт в своем искусстве Ярослав Кудряшов.
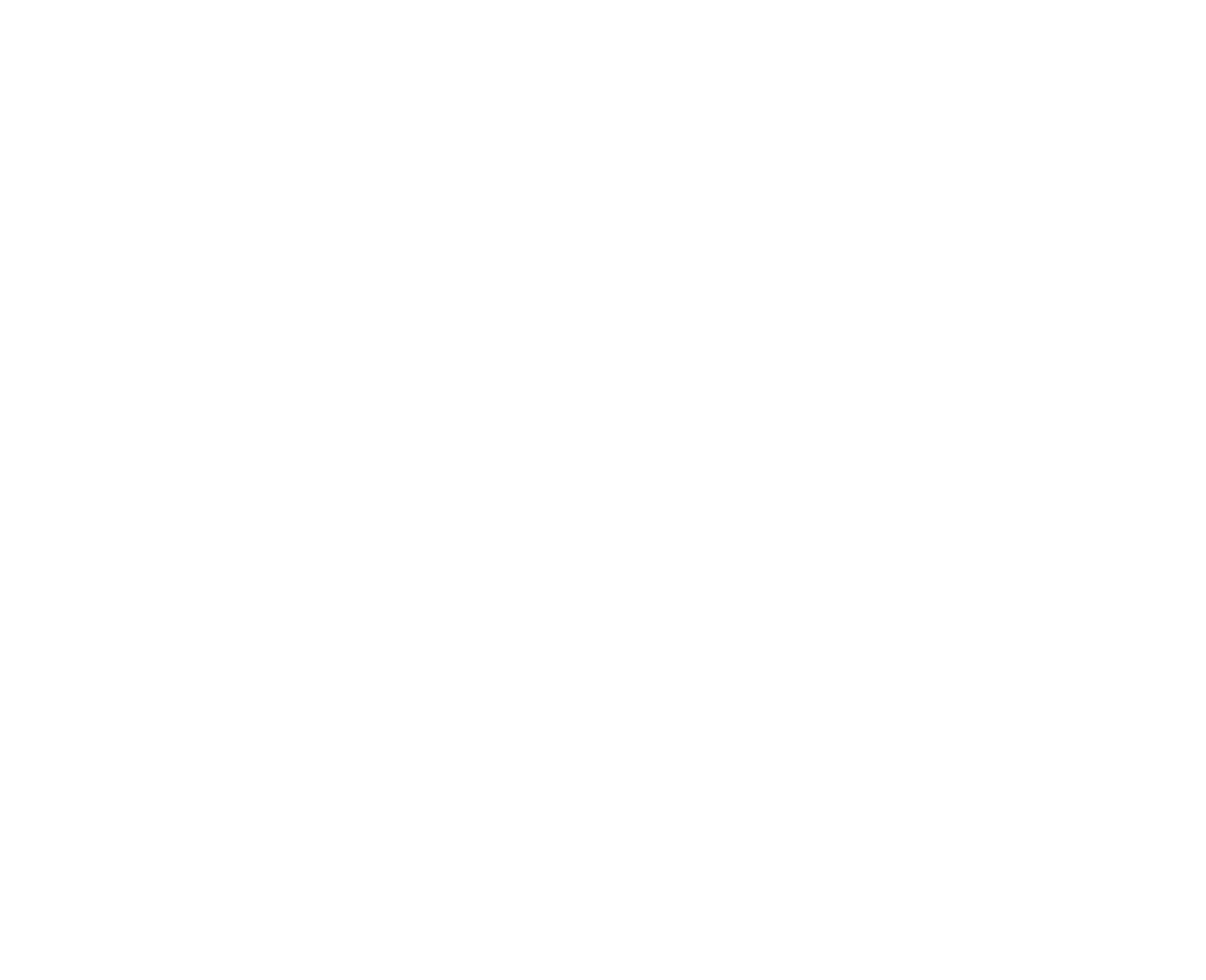
Аутоэстетика: Юрий Ешенков
В трактате "Творческая эволюция" французский философ Анри Бергсон утверждал, что жизнь - это беспрерывно возобновляемое творчество. Жизненный порыв, внутренняя суть жизни, всегда стремится за собственные пределы, эта воля, которая всегда направлена вовне. Она постоянно творит новое, более сложное, узорами деталей покрывает поверхность своей деятельности, творит объем и глубину там, где была двумерность и плоскость. Как змея сбрасывает кожу, порыв жизни оставляет позади собственного движения устойчивые, кристаллизированные, застывшие материальные формы - от вещей, материи в самом строгом смысле этого слова, первом и наиболее инертном проявлении жизни, тем, что является далеким, архаическим, хтоническим прошлым жизненной воли, до предметов искусства. Эволюция, развитие, развертывание жизни упрямо и непредсказуемо — интеллект не способен полностью предсказать возникающие формы в силу сложности, многолинейности этого процесса, представляющего из себя многослойный каскад потоков.
Работы Юрия Ешенкова полны такой грубой, непосредственной, сильной жизни; в них длительность, само время схвачено трудом художника в виде экспрессивных линий, пятен, цветовых ансамблей. Творчество, природа которого - восторг и неопределенность, обретает собственный портрет. Цвет и формы буквально выплескиваются, вторгаются в пространство восприятия. Упорство и несговорчивость цвета порождает экстремальную выразительность; кажется, что на его абстрактных пейзажах, в которых лишь угадываются знакомые формы, запечатлен момент, когда мир сдвинулся с места, пустился в пляс, когда все закономерности и обыденные логики затрещали по швам.
В произведениях Ешенкова все становится танцем и пламенем. Бергсоновская витальность, изнанка мира, побеждающая любые закостеневшие формы, отменяющая любой буржуазный покой и самоудовлетворенность, обретает в его полотнах выраженность и зримость. Для древнегреческого философа-досократика Гераклита, определившего во многом вектор и границы западноевропейского мышления, подарившего традиции философии идеи диалектики, космос — это вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий. Изнанка мира пламенеет в своём лишенном цели стремлении, мерцает рассыпающимися каскадами метаморфоз. Природа мира как постоянное движение, как становление, как война, как динамичное согласие несогласного, discordia concors, любит прятаться, избегать слов, однако творчество Ешенкова, как кажется, схватывает в своих подвижных, тающих, змеящихся формах эту потайную динамичную, диалектическую природу нашего мышления о реальности.
Работы Юрия Ешенкова полны такой грубой, непосредственной, сильной жизни; в них длительность, само время схвачено трудом художника в виде экспрессивных линий, пятен, цветовых ансамблей. Творчество, природа которого - восторг и неопределенность, обретает собственный портрет. Цвет и формы буквально выплескиваются, вторгаются в пространство восприятия. Упорство и несговорчивость цвета порождает экстремальную выразительность; кажется, что на его абстрактных пейзажах, в которых лишь угадываются знакомые формы, запечатлен момент, когда мир сдвинулся с места, пустился в пляс, когда все закономерности и обыденные логики затрещали по швам.
В произведениях Ешенкова все становится танцем и пламенем. Бергсоновская витальность, изнанка мира, побеждающая любые закостеневшие формы, отменяющая любой буржуазный покой и самоудовлетворенность, обретает в его полотнах выраженность и зримость. Для древнегреческого философа-досократика Гераклита, определившего во многом вектор и границы западноевропейского мышления, подарившего традиции философии идеи диалектики, космос — это вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий. Изнанка мира пламенеет в своём лишенном цели стремлении, мерцает рассыпающимися каскадами метаморфоз. Природа мира как постоянное движение, как становление, как война, как динамичное согласие несогласного, discordia concors, любит прятаться, избегать слов, однако творчество Ешенкова, как кажется, схватывает в своих подвижных, тающих, змеящихся формах эту потайную динамичную, диалектическую природу нашего мышления о реальности.
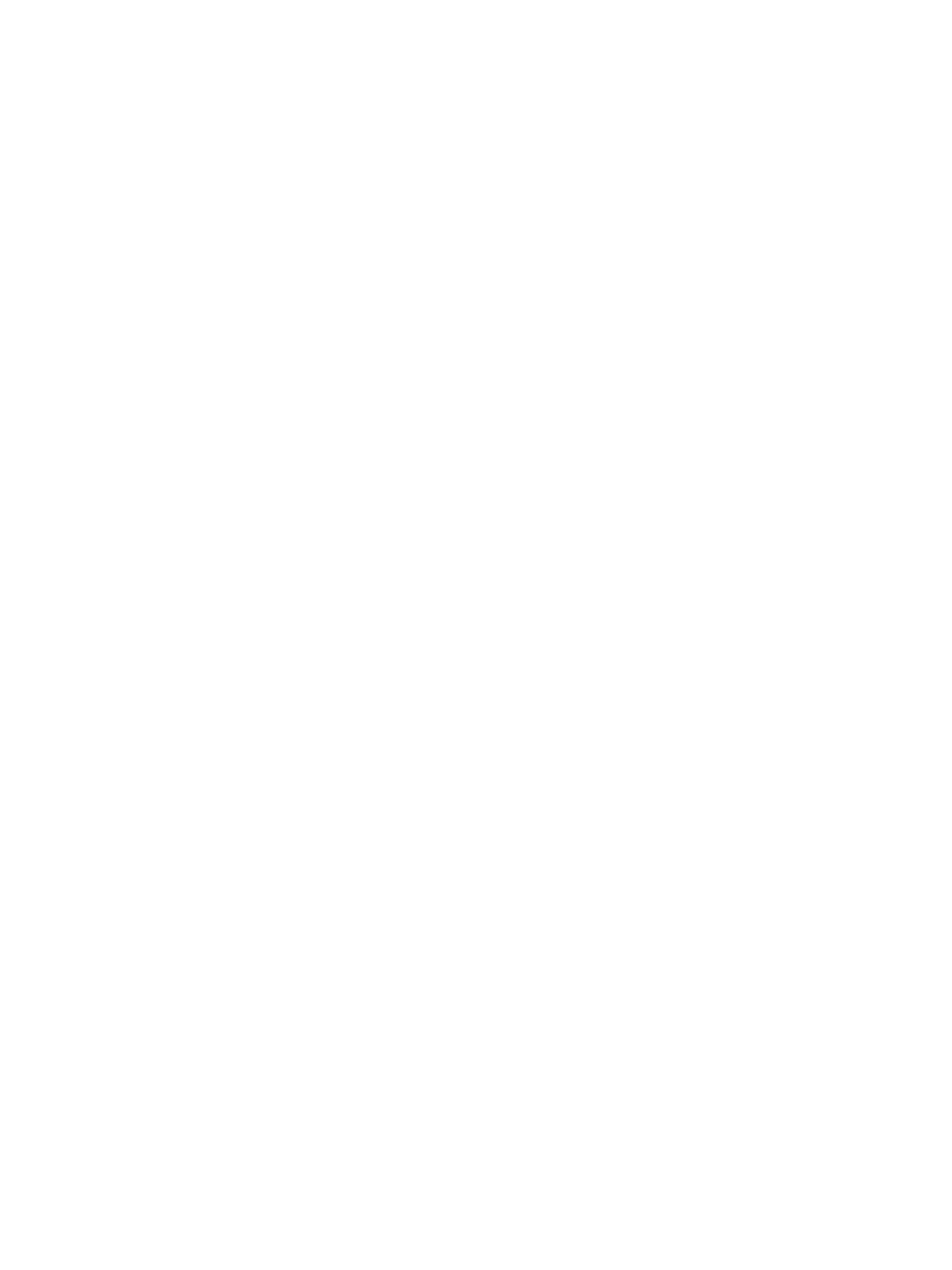
Аутоэстетика: Елизавета Худякова
Изобразительные искусства драгоценны тем, что они способны изобразить не только воспринимаемую поверхность вещи, но и проникнуть глубже. Они способны схватить в игре цвета и форм особенный индивидуальный опыт - настроение, чувство, которые обычно сокрыты и с трудом высказываются в повседневной речи. Знакомое, обыденное, если пользоваться выражением Шкловского, остраняется, кажется, что она явилось из чужих, далеких стран. В обыкновенном и привычном вдруг начинает зиять тайна. Иногда это свет таинственного зловещий, иногда, напротив, несет восторг и завороженность.
Самый, пожалуй, известный пример - "Башмаки" Ван Гога. Обыкновенные ботинки рабочего, купленные на блошином рынке в Париже, в них - его доля и тяжелая жизнь. Однако вырванные из контекста практической жизни, попавшие в фокус преображающего внимания художника, они, как кажется, являют собой некую овеществленную, опредмеченную загадку. В них раскрывается обычно сокрытая, незаметная сущность труда и усталости, жизненный опыт того, кто изо дня в день носил эти башмаки. Когда художник в эстетическом акте обрывает практические связи предмета, лишает его функции, предмет начинает говорить сам по себе, а через эту речь транслируется опыт людей, которые так или иначе были связаны с этим предметом. Искусство в этом смысле практика раскрытия сокрытого - смыслов, потаённых сложных чувств, форм и идей, наконец, ощущения самого существования. Чтобы выразить жизненный мир человека как внешний, доступный постижению, чтобы чужая перспектива и взгляд на мгновения встречи с произведением искусства стала собственной, оставаясь незнакомой, странной, требуется раскрытие, развертывание самой сущности предмета как он дан нашему труду и жизни. Это, безусловно, дело большого таланта и долгого пути находок и утрат.
Искусство способно превратить привычное в странное, незнакомое; к примеру, человеческое лицо, знак биографии, судьбы, настроения, может превратиться в работе одаренного художника в символ, ссылающийся на изнанку мира, на ту древнейшую чувственную реальность, интенсивность которой ещё не поблекла под гнетом разума. В этой реальности цвет могуществен и всевластен.
Художница Елизавета Худякова пишет как раз такие предельно экспрессивные портреты. Ее манера - дикие, чистые цвета, крупные элементы, резкость очертаний, некоторая геометричность - навевает ассоциации с немецким экспрессионизмом 20-х годов, т.е. "новой вещественностью", стилем Матисса и фовистов, а также - из-за яркости и неожиданных, оригинальных сочетаний цветов - с Уорхолом. Однако, безусловно, ее манера совершенно оригинальна, не эклектична, последовательна. Люди на ее портретах, как кажется, обряжены в маски мексиканского Дня мертвых, они будто бы вернулись из путешествия в Аид и хранят невыразимое знание. Их лица искажены, тронуты хтоническим хаосом, и это совсем не плод случайности или ошибки - манера Елизаветы Худяковой последовательна и внутренне цельна. Выразительность такова, что пересекает территорию слова и смысла, это выразительность молчания, выразительность застывшего, распадающегося в стазисе человеческого внутреннего времени.
Смерть - важная тема для художницы, на ее рисунках множество пугающих символов, отсылающих к умиранию; впрочем, кажется, что смерть не конец, что умирание - это бесконечный процесс, за ним нет и не будет никакого спасительного забвения. Смерть ведёт в Запределье, в зыбкий, спутанный мир. Некоторые рисунки сочатся ужасом - тем исконным ужасом запредельного и хаотического, который мы можем увидеть на картинах Босха и который, по словам Мишеля Фуко, был свойственен европейской цивилизации в средние века: Запределье смерти и безумия пугает, это пляска ужаса и смятения, но оно же таит секреты, непостижимую мудрость.
Самый, пожалуй, известный пример - "Башмаки" Ван Гога. Обыкновенные ботинки рабочего, купленные на блошином рынке в Париже, в них - его доля и тяжелая жизнь. Однако вырванные из контекста практической жизни, попавшие в фокус преображающего внимания художника, они, как кажется, являют собой некую овеществленную, опредмеченную загадку. В них раскрывается обычно сокрытая, незаметная сущность труда и усталости, жизненный опыт того, кто изо дня в день носил эти башмаки. Когда художник в эстетическом акте обрывает практические связи предмета, лишает его функции, предмет начинает говорить сам по себе, а через эту речь транслируется опыт людей, которые так или иначе были связаны с этим предметом. Искусство в этом смысле практика раскрытия сокрытого - смыслов, потаённых сложных чувств, форм и идей, наконец, ощущения самого существования. Чтобы выразить жизненный мир человека как внешний, доступный постижению, чтобы чужая перспектива и взгляд на мгновения встречи с произведением искусства стала собственной, оставаясь незнакомой, странной, требуется раскрытие, развертывание самой сущности предмета как он дан нашему труду и жизни. Это, безусловно, дело большого таланта и долгого пути находок и утрат.
Искусство способно превратить привычное в странное, незнакомое; к примеру, человеческое лицо, знак биографии, судьбы, настроения, может превратиться в работе одаренного художника в символ, ссылающийся на изнанку мира, на ту древнейшую чувственную реальность, интенсивность которой ещё не поблекла под гнетом разума. В этой реальности цвет могуществен и всевластен.
Художница Елизавета Худякова пишет как раз такие предельно экспрессивные портреты. Ее манера - дикие, чистые цвета, крупные элементы, резкость очертаний, некоторая геометричность - навевает ассоциации с немецким экспрессионизмом 20-х годов, т.е. "новой вещественностью", стилем Матисса и фовистов, а также - из-за яркости и неожиданных, оригинальных сочетаний цветов - с Уорхолом. Однако, безусловно, ее манера совершенно оригинальна, не эклектична, последовательна. Люди на ее портретах, как кажется, обряжены в маски мексиканского Дня мертвых, они будто бы вернулись из путешествия в Аид и хранят невыразимое знание. Их лица искажены, тронуты хтоническим хаосом, и это совсем не плод случайности или ошибки - манера Елизаветы Худяковой последовательна и внутренне цельна. Выразительность такова, что пересекает территорию слова и смысла, это выразительность молчания, выразительность застывшего, распадающегося в стазисе человеческого внутреннего времени.
Смерть - важная тема для художницы, на ее рисунках множество пугающих символов, отсылающих к умиранию; впрочем, кажется, что смерть не конец, что умирание - это бесконечный процесс, за ним нет и не будет никакого спасительного забвения. Смерть ведёт в Запределье, в зыбкий, спутанный мир. Некоторые рисунки сочатся ужасом - тем исконным ужасом запредельного и хаотического, который мы можем увидеть на картинах Босха и который, по словам Мишеля Фуко, был свойственен европейской цивилизации в средние века: Запределье смерти и безумия пугает, это пляска ужаса и смятения, но оно же таит секреты, непостижимую мудрость.
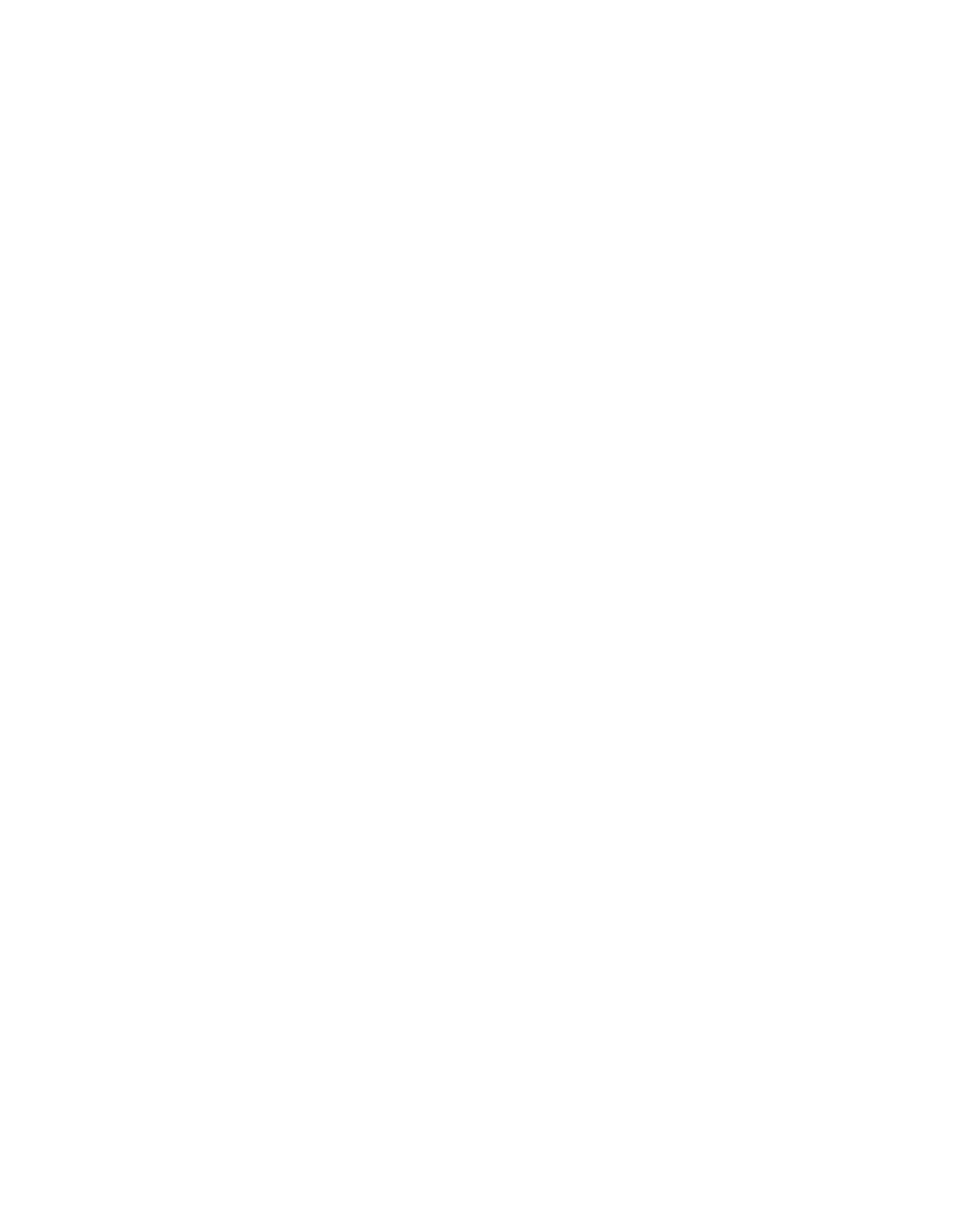
Аутоэстетика: Сара Герцман
Обычно кажется, что чудо — это нечто ускользающе редкое, невозможное. Хоть нас и завораживает мысль о встрече с чудесным, нам слабо верится в то, что сама плоть повседневности может быть соткана из чуда. Чудо невероятно, разрыв в плотной паутине причин и следствий, опутывающих и формирующих все факты нашей жизни, кажется чем-то неслыханным и невозможным. У каждого "как" и "что", предполагается, есть свое объяснение, встраивающее их в неразрывную цепочку явлений. Кажется, что, столкнувшись с чудесным — с разрывом в пелене причинности — мы не заметим этого, так как наш могущественный разум встроит подлинно случайное, лишенное основания и невозможное, в причинные механизмы мира. Однако чудо там, где замолкает возможность объяснения; наш разум останавливается в восхищении и недоумении перед необъяснимым, так как не знает, куда ему двигаться дальше.
Возможно, в будущем, с развитием нейронаук, мы сможем объяснить все тончайшие движения души сложной работой ансамблей нейронов; возможно, мы сможем проследить все явления природы до колыбели Большого взрыва. Однако даже при тотальном триумфе наук останется вездесущая тайна и чудо, которые невозможно объяснить, объяснение которых невозможно даже помыслить. Сама плоть нашей реальности суть чудесное, ведь нет никаких причин и объяснений, если не брать совсем неправдоподобные метафизические спекуляции неоплатонистского или буддистского толка, почему существует нечто, а не ничто. Почему вообще что-то есть? Почему в пустоте и безосновности сияет свет бытия? Почему вдруг единое и молчаливое беспредельное ничто пришло в движение и распалось на множество форм и вещей? Почему бытие есть?
Чудом, доступным человеческому сознанию, является подобный вопрос о бытии и даже само осознание факта существования — существования, которое будто бы парит над невообразимыми, непроглядными безднами небытия. Однако это осознание редко. Будто бы разрыв и вспышка молнии в темную ночь, оно изредка — в самые счастливые и головокружительные моменты — настигает нас. Встроенные в механику повседневности, посвятившие себя заботе о собственной жизни и окружающих, мы редко можем выйти за освещенный мертвенным светом банального круг повседневных тягот, мыслей и труда. Однако чудо всегда поджидает нас на границе нашего сознания, оно притаилось, оно на дистанции и в то же время вездесуще.
Искусство, как и вообще иные сферы культуры, это своеобразный ускоритель для нашего ума, способ расширить нашу способность чувствовать и задаваться вопросами. Благодаря произведениям искусства мы доходим до границ выразимого и объяснимого, а затем устремляемся дальше, в спутанность и пестрый сумрак. Опыт взаимодействия с искусством — тогда, когда это настоящая встреча с прекрасным, непрагматичным — несет на себе печать чудесного; будто бы бытие в акте художественного восприятия освобождается от пут причин и следствий и являет себя как цельное, замкнутое, существующее лишь в себе и для себя. Таким образом, картина, музыка, поэма могут быть чувственным способом ощутить загадочность и предельную непосредственность самого существования, очищенного от тревог, забот и стремлений.
Графика и коллажи Сары Герцман несут на себе печать ностальгии, хрупкой и даже болезненной, чувствительной печали. В них есть что-то от юности мира и сознания, в них греза по утраченному Эдему, по началам, чьи звенящие ручьи успокаивают все тревоги и раны. Округлые, мягкие формы и цветовые сочетания её работ скорее успокаивают, будто утешающее прикосновение, чем будоражат. Но несмотря на эмоциональный заряд, на те чувства, которые обрели в них предметное выражение, в её работах есть также отзвуки чудесного, превосходящего эмоциональное и фигуративное содержание. Меланхолия оборачивается созерцанием, созерцание рассыпается каскадом вопросов и сгущается сосредоточенным безмолвием. Вышитые бисером и мулине или смешанные с акрилом перья на холсте - работы Сары Герцман открывают будто бы иной мир — мир подлинно художественный, самосущий, не связанный цепями обыденных ассоциаций, мир, в котором свободно играют формы и цвета. Свободная игра на холстах Герцман — один из способов через чувство, через восприятие прийти к идее бытия как негарантированного, необъяснимого движения форм, как просвета, ослепительного радужного потока света в темноте. Эта возможность не исключительна для работ художницы, она встроена в любое подлинно художественное творение.
Облака на небе обретают очертания, движутся, не запятнанные тревогой, не способные к рефлексии и осознанию, они воплощение загадки, которая пронизывает всё, все страты существования. Также и с искусством — игра очертаний, поток эйдосов, образов, бьющий из самой сердцевины, из жизненного истока художника, превосходит любые конкретные объяснения. Художественное рождается там, где в предмет включен избыток, неисчерпаемость, т.е. множество смыслов и интерпретаций, будто бы рождающихся из ничего, ex nihilo, о которых не мог помыслить сам художник. Этот избыток таит в себе возможность столкновения с чудом бытия как принципиально превосходящего любую конкретность и ограниченность. Работы Сары Герцман как плоды подлинно художественного мышления содержат в себе эту множественность, неистощимую вариативность интерпретации. И эта множественность открывает чуткому зрителю нехоженые тропы, ведущие к чуду, к завороженности фактом существования, потаенные тропинки к расколотому сердцу мира, рождающему в своей древней печали плоды радости и меланхолии, цвета и монохромности, контраста и единства.
Возможно, в будущем, с развитием нейронаук, мы сможем объяснить все тончайшие движения души сложной работой ансамблей нейронов; возможно, мы сможем проследить все явления природы до колыбели Большого взрыва. Однако даже при тотальном триумфе наук останется вездесущая тайна и чудо, которые невозможно объяснить, объяснение которых невозможно даже помыслить. Сама плоть нашей реальности суть чудесное, ведь нет никаких причин и объяснений, если не брать совсем неправдоподобные метафизические спекуляции неоплатонистского или буддистского толка, почему существует нечто, а не ничто. Почему вообще что-то есть? Почему в пустоте и безосновности сияет свет бытия? Почему вдруг единое и молчаливое беспредельное ничто пришло в движение и распалось на множество форм и вещей? Почему бытие есть?
Чудом, доступным человеческому сознанию, является подобный вопрос о бытии и даже само осознание факта существования — существования, которое будто бы парит над невообразимыми, непроглядными безднами небытия. Однако это осознание редко. Будто бы разрыв и вспышка молнии в темную ночь, оно изредка — в самые счастливые и головокружительные моменты — настигает нас. Встроенные в механику повседневности, посвятившие себя заботе о собственной жизни и окружающих, мы редко можем выйти за освещенный мертвенным светом банального круг повседневных тягот, мыслей и труда. Однако чудо всегда поджидает нас на границе нашего сознания, оно притаилось, оно на дистанции и в то же время вездесуще.
Искусство, как и вообще иные сферы культуры, это своеобразный ускоритель для нашего ума, способ расширить нашу способность чувствовать и задаваться вопросами. Благодаря произведениям искусства мы доходим до границ выразимого и объяснимого, а затем устремляемся дальше, в спутанность и пестрый сумрак. Опыт взаимодействия с искусством — тогда, когда это настоящая встреча с прекрасным, непрагматичным — несет на себе печать чудесного; будто бы бытие в акте художественного восприятия освобождается от пут причин и следствий и являет себя как цельное, замкнутое, существующее лишь в себе и для себя. Таким образом, картина, музыка, поэма могут быть чувственным способом ощутить загадочность и предельную непосредственность самого существования, очищенного от тревог, забот и стремлений.
Графика и коллажи Сары Герцман несут на себе печать ностальгии, хрупкой и даже болезненной, чувствительной печали. В них есть что-то от юности мира и сознания, в них греза по утраченному Эдему, по началам, чьи звенящие ручьи успокаивают все тревоги и раны. Округлые, мягкие формы и цветовые сочетания её работ скорее успокаивают, будто утешающее прикосновение, чем будоражат. Но несмотря на эмоциональный заряд, на те чувства, которые обрели в них предметное выражение, в её работах есть также отзвуки чудесного, превосходящего эмоциональное и фигуративное содержание. Меланхолия оборачивается созерцанием, созерцание рассыпается каскадом вопросов и сгущается сосредоточенным безмолвием. Вышитые бисером и мулине или смешанные с акрилом перья на холсте - работы Сары Герцман открывают будто бы иной мир — мир подлинно художественный, самосущий, не связанный цепями обыденных ассоциаций, мир, в котором свободно играют формы и цвета. Свободная игра на холстах Герцман — один из способов через чувство, через восприятие прийти к идее бытия как негарантированного, необъяснимого движения форм, как просвета, ослепительного радужного потока света в темноте. Эта возможность не исключительна для работ художницы, она встроена в любое подлинно художественное творение.
Облака на небе обретают очертания, движутся, не запятнанные тревогой, не способные к рефлексии и осознанию, они воплощение загадки, которая пронизывает всё, все страты существования. Также и с искусством — игра очертаний, поток эйдосов, образов, бьющий из самой сердцевины, из жизненного истока художника, превосходит любые конкретные объяснения. Художественное рождается там, где в предмет включен избыток, неисчерпаемость, т.е. множество смыслов и интерпретаций, будто бы рождающихся из ничего, ex nihilo, о которых не мог помыслить сам художник. Этот избыток таит в себе возможность столкновения с чудом бытия как принципиально превосходящего любую конкретность и ограниченность. Работы Сары Герцман как плоды подлинно художественного мышления содержат в себе эту множественность, неистощимую вариативность интерпретации. И эта множественность открывает чуткому зрителю нехоженые тропы, ведущие к чуду, к завороженности фактом существования, потаенные тропинки к расколотому сердцу мира, рождающему в своей древней печали плоды радости и меланхолии, цвета и монохромности, контраста и единства.
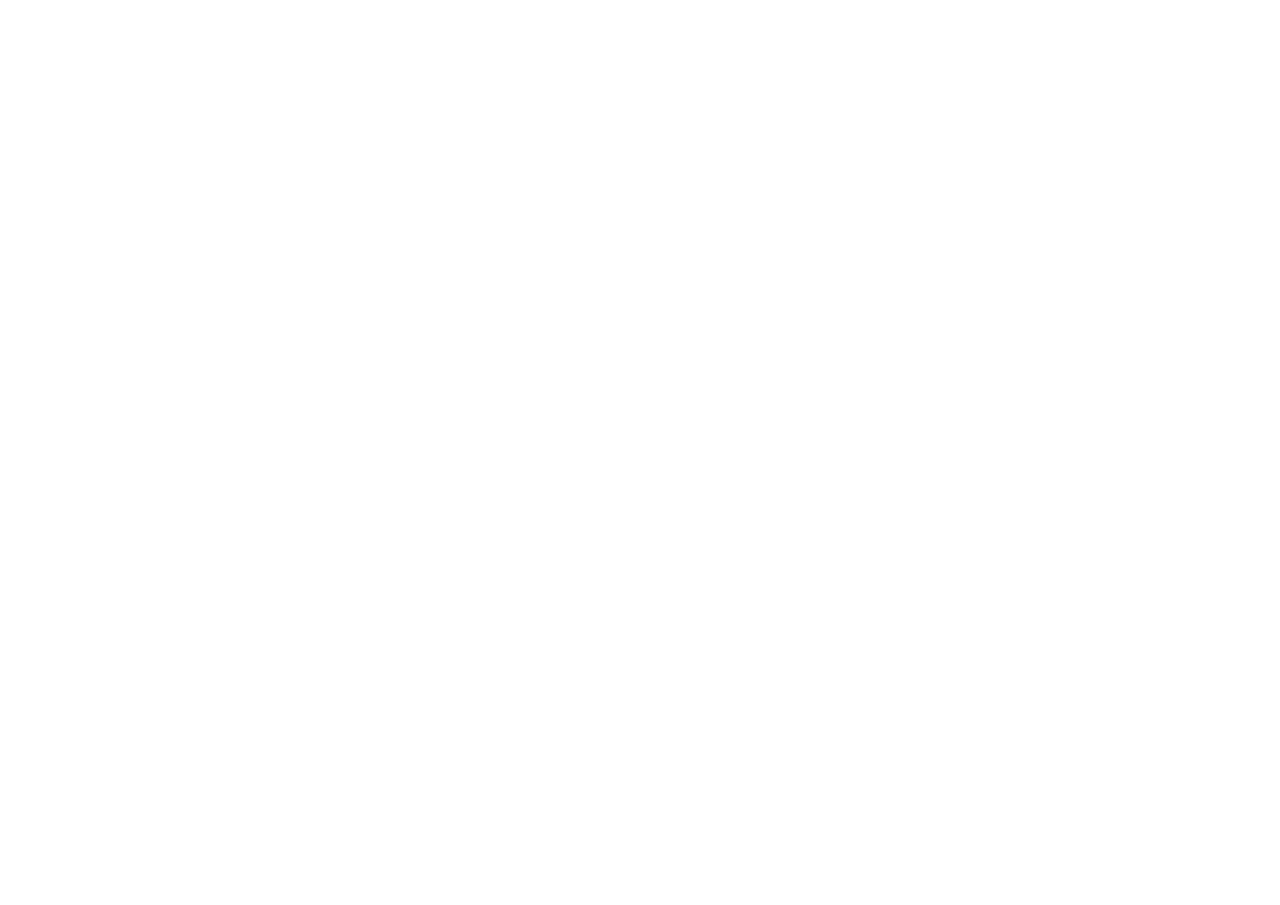
Аутоэстетика: Михаил Ардашников
Безумие имеет свою историю. Прежде чем стать собственно психиатрической проблемой и исчезнуть, раствориться в частных и гораздо более конкретных нозологических единицах, оно было социальным явлением, формой существования разума, явлением запредельного, потустороннего в повседневности. Для Средних веков безумец был фигурой, застрявшей между небом и землей, отмеченной богом, утратившей знания мира ради знаний обратной стороны, изнанки. Тогда еще безумие не понималось как аномальная, нуждающаяся в контроле и изоляции форма разума, как патология, требующая лечения — а значит надзора. Не понималось оно и как собственно грех, скорее, как метка. Оно понималось как разрыв, как напоминание о тщетности и хрупкости мира и ограниченности разума, в который нет и не может быть веры. Не случайно на рубеже Возрождения и Средних Веков становится популярным сюжет Корабля дураков - суденышка, пойманного в бушующем море, равно удаленного от земли и небес.
Рисунки Михаила Ардашникова, как кажется, как раз и являются потусторонним гостем, пришельцем из мира безумия, безумия, понимаемого в средневековом смысле как изнанка мира, а не как медицинская проблема. Кажется, что символы и образы его графики явились из Ungrund, - сумрачного, бездонного основания мира, полного движения, возможностей и форм, полного темного пламени. Геометрически, композиционно, технически безупречные, рисунки содержат в себе буйный, причудливый мир сновидений, в котором встречается и сплетается в танце самое неожиданное, символичное, глубокое. Смыслы, которые Ардашников вкладывает в свои рисунки, не прочитываются с легкостью, поверхность остается непроницаемой, в этом смысле его картины напоминают некоторые символические рисунки Дюрера или картины Босха, которые тоже — во всяком случае для нас, современных людей — с трудом поддаются истолкованию. Поэтому эта графика воспринимается как энигматические арабески, как летопись загадки, таинственные письмена, содержащие в себе целый мир с его мифологией, метафизикой, всем, чем угодно, кроме стёртой, пыльной, скудной повседневности.
Рисунки Михаила Ардашникова, как кажется, как раз и являются потусторонним гостем, пришельцем из мира безумия, безумия, понимаемого в средневековом смысле как изнанка мира, а не как медицинская проблема. Кажется, что символы и образы его графики явились из Ungrund, - сумрачного, бездонного основания мира, полного движения, возможностей и форм, полного темного пламени. Геометрически, композиционно, технически безупречные, рисунки содержат в себе буйный, причудливый мир сновидений, в котором встречается и сплетается в танце самое неожиданное, символичное, глубокое. Смыслы, которые Ардашников вкладывает в свои рисунки, не прочитываются с легкостью, поверхность остается непроницаемой, в этом смысле его картины напоминают некоторые символические рисунки Дюрера или картины Босха, которые тоже — во всяком случае для нас, современных людей — с трудом поддаются истолкованию. Поэтому эта графика воспринимается как энигматические арабески, как летопись загадки, таинственные письмена, содержащие в себе целый мир с его мифологией, метафизикой, всем, чем угодно, кроме стёртой, пыльной, скудной повседневности.
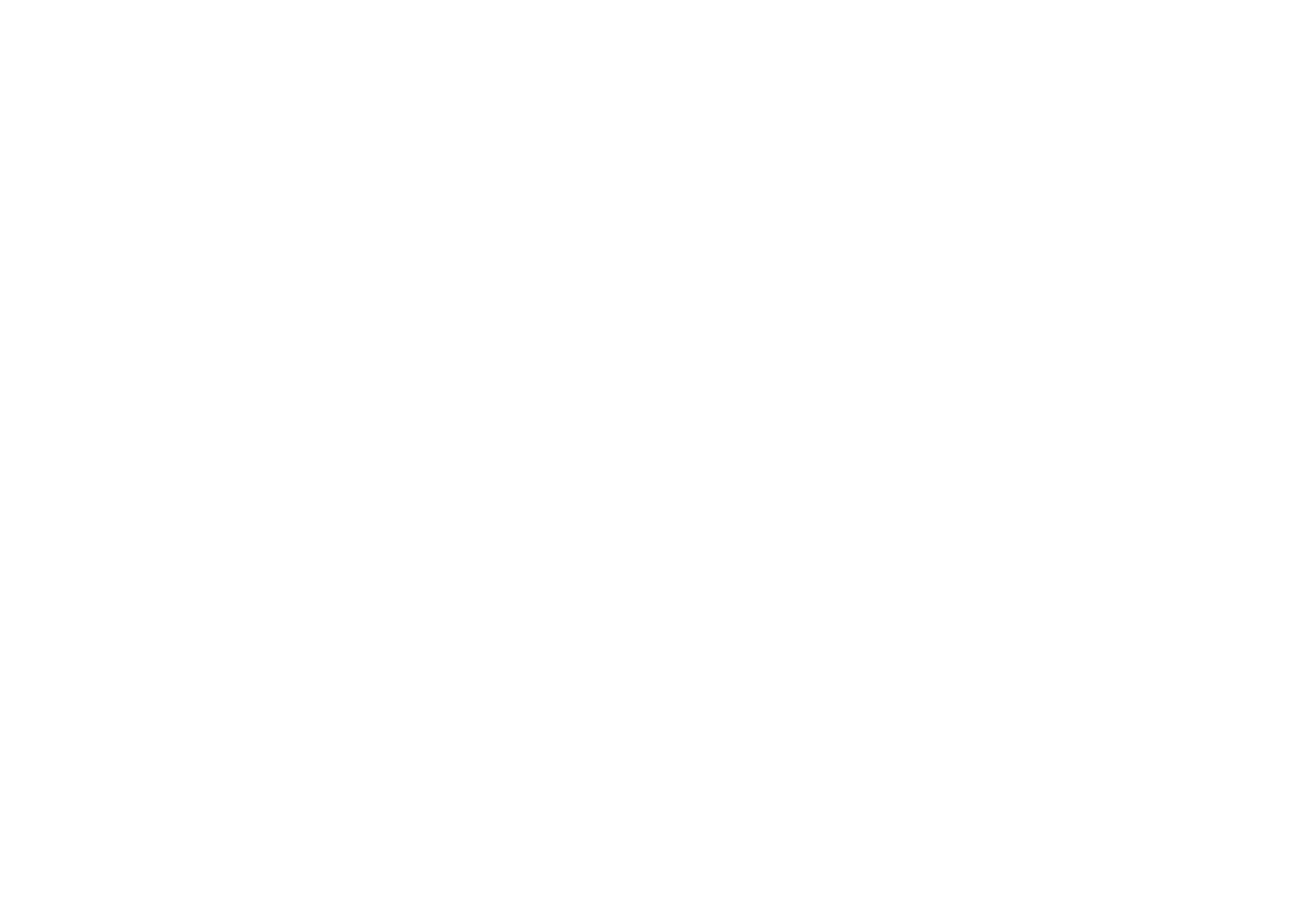
Аутоэстетика: Сергей Федулов
Юмор и наивное, неогранённое искусство иногда могут неосознанно служить одной и той же цели — приданию зримой, воспринимаемой формы стереотипам, глубоко укорененным в здравом смысле эпохи, в обыденном сознании. Такие непосредственно выраженные стереотипы могут казаться некой навязчивостью, фантазмом, насильственно вторгающимся в творческий акт. Это не случайно, так как функция любого стереотипа — это остановка мышления, экономия мыслительных сил; символы банального, таким образом, скрываются от рефлексии и фиксации, так как представляют из себя разрыв в процессе мысли. Наивные художники способны зафиксировать этот разрыв, так как он становится определенного рода наваждением для них. Безусловно, это является как слабостью, так и силой подобного искусства.
Картины Сергея Федулова, как кажется, реализуют эту редкую возможность по фиксации непосредственности, беспечной и безответственной юности мысли, в данном случае, мысли политической. Символы — важная часть обыденного политического мышления, сама наша готовность подчиняться или солидаризироваться с другими в общем действии произрастает иногда на почве общих, расхожих представлений, которые могут быть выражены, в случае Федулова, в виде яркого, подчеркнуто аляповатого, небрежного образа. Любая власть мифологична, является силой, чье воздействие не вытекает непосредственно из её наличности, из того, что она есть как простая совокупность тел: политический лидер является просто человеком и, тем не менее, его действия вызывают такие последствия и резонанс, что кажется, что он нечто большее или иное; что он обладает, благодаря системе государства, неким всепроникающим символическим телом. Сергей Федулов благодаря остроумной иронии схватывает эту двойственность наличного и символического с мастерством: на его картинах Сталин, один из мощных и наиболее устрашающих, демонических образов новой истории, превращается в гигантского космического трансформера, читает доклад на всегалактическом съезде и так далее. Следовательно, в картинах художника воплощаются такие свойства политического стереотипа как грандиозность, граничащая с мегаломанией, и всепроникающий, стремящийся к тоталитарности - космичности, вселенскости - характер.
Картины Сергея Федулова — это еще и ироничный комментарий к обыденному российскому политическому мышлению, насквозь пронизанному ностальгией. Ностальгия по мифологическому прошедшему величию (величие — это всегда миф), ориентация на прошлое — существенная черта российской политической ментальности, которая по сути — в силу традиционалистского характера — регрессивна, а не прогрессивна. Эти грёзы, которые остаются безопасными, когда они выражаются в виде иронии и сквозь призму сюрреалистического сна, художник воплощает с помощью наивных, сентиментальных образов, подчеркнуто неловкой рисовки и пестрых цветовых решений. Таким образом нейтрализуется, обезвреживается устрашающий потенциал политических мифов, которые превращаются в анекдот, сказку, неловкость, извинение.
Художественное мышление Федулова в полном смысле этого слова космополитично — домом художника становится очеловеченный, освоенный космос, в котором продолжают разыгрываться в виде эха сюжеты из недавней истории, но уже в виде буффонады, а не трагедии.
Кажется, что наивность картин Федулова несёт угрозу вымывания памяти трагедии, забвения катастроф, однако ироническая дистанция, которую он, очевидно, выдерживает, позволяет через ностальгию и преображение обыденных образов стать его работам скорее неким целительным, успокаивающим бальзамом, который, тем не менее, не влечёт беспамятства. Его сюжеты заставляют представить старинную музыкальную шкатулку, которая, запинаясь и дребезжа, проигрывает полузабытую меланхоличную мелодию под аккомпанемент футуристически-ностальгического kraut techo.
Картины Сергея Федулова, как кажется, реализуют эту редкую возможность по фиксации непосредственности, беспечной и безответственной юности мысли, в данном случае, мысли политической. Символы — важная часть обыденного политического мышления, сама наша готовность подчиняться или солидаризироваться с другими в общем действии произрастает иногда на почве общих, расхожих представлений, которые могут быть выражены, в случае Федулова, в виде яркого, подчеркнуто аляповатого, небрежного образа. Любая власть мифологична, является силой, чье воздействие не вытекает непосредственно из её наличности, из того, что она есть как простая совокупность тел: политический лидер является просто человеком и, тем не менее, его действия вызывают такие последствия и резонанс, что кажется, что он нечто большее или иное; что он обладает, благодаря системе государства, неким всепроникающим символическим телом. Сергей Федулов благодаря остроумной иронии схватывает эту двойственность наличного и символического с мастерством: на его картинах Сталин, один из мощных и наиболее устрашающих, демонических образов новой истории, превращается в гигантского космического трансформера, читает доклад на всегалактическом съезде и так далее. Следовательно, в картинах художника воплощаются такие свойства политического стереотипа как грандиозность, граничащая с мегаломанией, и всепроникающий, стремящийся к тоталитарности - космичности, вселенскости - характер.
Картины Сергея Федулова — это еще и ироничный комментарий к обыденному российскому политическому мышлению, насквозь пронизанному ностальгией. Ностальгия по мифологическому прошедшему величию (величие — это всегда миф), ориентация на прошлое — существенная черта российской политической ментальности, которая по сути — в силу традиционалистского характера — регрессивна, а не прогрессивна. Эти грёзы, которые остаются безопасными, когда они выражаются в виде иронии и сквозь призму сюрреалистического сна, художник воплощает с помощью наивных, сентиментальных образов, подчеркнуто неловкой рисовки и пестрых цветовых решений. Таким образом нейтрализуется, обезвреживается устрашающий потенциал политических мифов, которые превращаются в анекдот, сказку, неловкость, извинение.
Художественное мышление Федулова в полном смысле этого слова космополитично — домом художника становится очеловеченный, освоенный космос, в котором продолжают разыгрываться в виде эха сюжеты из недавней истории, но уже в виде буффонады, а не трагедии.
Кажется, что наивность картин Федулова несёт угрозу вымывания памяти трагедии, забвения катастроф, однако ироническая дистанция, которую он, очевидно, выдерживает, позволяет через ностальгию и преображение обыденных образов стать его работам скорее неким целительным, успокаивающим бальзамом, который, тем не менее, не влечёт беспамятства. Его сюжеты заставляют представить старинную музыкальную шкатулку, которая, запинаясь и дребезжа, проигрывает полузабытую меланхоличную мелодию под аккомпанемент футуристически-ностальгического kraut techo.
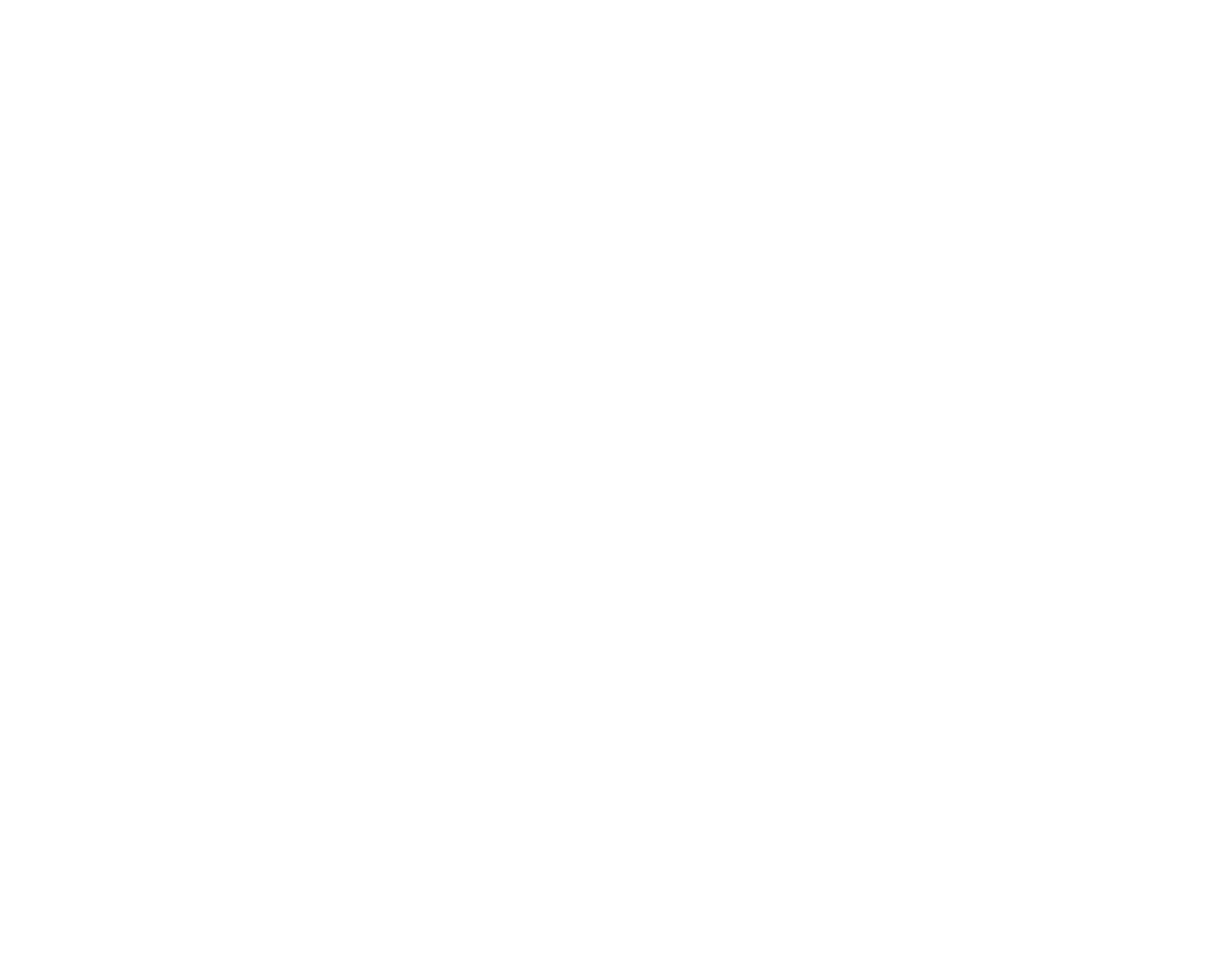
Аутоэстетика: Валентин Симанков
Мы окружены тем, что называем вещами, наша жизнь проходит среди джунглей предметов. Однако эти предметы еще не являются доподлинно вещами — их независимость теряется, они всегда подручны, их суть в том, чтобы быть инструментом. Они служат чему-то. Вещь по-настоящему становится вещью, т.е. независимой, существующей ради себя, порождающей смыслы и практики, только в искусстве. Искусство — это практика производства вещей, практика священная, загадочная, походя её коснулось молчание чудесного. Только произведение искусства и его элементы являются Вещами в самом строгом смысле этого слова. Ведь воздействие произведения искусства на нас, та радость, удивление, печаль и прочие чувства, которые мы испытываем, не исчерпывают содержания этой Вещи. Кантовские ding-an-sich, вещи-сами-по-себе, вещи-в-себе являются вещами в полном смысле слова оттого, что существуют независимо от человеческого промысла, от намерений и оценок человека; они — существование, принявшее таинственную, непостижимую форму, существование, которое явлено нам знаками ощущений. Аналогично и с произведениями искусства — предметы, лишившись своего практического контекста, освобожденные от человеческой нужды и потребностей, начинают сиять, являют свое подлинное существо. Вырванные из оков необходимости, они больше не сводятся к чему-то, но сами порождают смыслы и контексты. Они уже не незначительная часть мира, но целый герметичный, самозамкнутый мир, приглашающий прикоснуться к нему.
В этом смысле искусство — это практика по созданию вещей. Творение, поэзис расчищают небеса от облаков и смога так, что одинокая звезда Вещи может сиять в своей обособленности. Холодный свет, отраженный в наших глазах, её единственное проявление, она ни к чему не пригодна. Невозможно включить произведение искусства в практическую деятельность, не разрушив его как Вещь.
Фотограф, художник, коллажист Валентин Симанков в своих работах, выполненных в смешанной технике, возвращает вещам их подлинность и независимость. Его работы, состоящие из фрагментов собственных фотографий, проявленных самостоятельно, самым причудливым и импровизационным способом, из обрывков фраз, цветовых пятен загадочны и непроницаемы; кажется, что они не пропускают сквозь свои границы интерпретирующий разум.
Аристотель учил, что у всякого предмета есть четыре причины: формальная (что это?), материальная (из чего это сделано?), каузальная (как пришло в существование?) и телеологическая (ради какой цели существует?). В произведении искусства телеологическая причина заключается в самом существовании вещи — оно существует лишь ради того, чтобы быть, а каузальная причина затемнена, ведь акт творения, даже в самых рациональных искусствах, полностью необъясним, в нем свершается какая-то тайна, какая-то стихийная импровизация, какой-то избыток, который обеспечивается сложным и практически непрослеживаемым взаимодействием индивидуальной истории и характера художника с объективными данностями и механизмами культуры. На первый план в произведении искусства выходит органическое единство формального и материального, "что" и "из чего" нераздельны, слиты. Художественные артефакты Симанкова удовлетворяют этому наблюдению: их возникновение кажется чудесным и непостижимым, мастерство художника скрывает все технические приемы в самом результате. Его фотоколлажи, как кажется, существуют не ради украшения или наслаждения, но как самостоятельные единицы, в которых их форма и многообразный материал сплетены воедино - в гармоничную, богатую, внутренне насыщенную и напряженную целостность.
Художественные Вещи Валентина Симанкова таят в себе урок: существование не нуждается в цели и не обязано искать опору в причинах своего существования. В хаосе и суете повседневности мы привыкли оправдывать наше существование чем-то внешним — целями, мечтами, смыслами, превращая жизнь в призрак, нечто, что существует ради иного. Однако же жизнь замкнута, цельна и обособлена, вне жизни нет ничего и нет ничего, к чему бы ее можно было прислонить. Независимые, самодостаточные произведения Симанкова, тёмные и глубокие в своей пестроте, как кажется, существуют лишь ради самого существования — и это высший род esse, которому мы можем научиться у Вещей искусства.
В этом смысле искусство — это практика по созданию вещей. Творение, поэзис расчищают небеса от облаков и смога так, что одинокая звезда Вещи может сиять в своей обособленности. Холодный свет, отраженный в наших глазах, её единственное проявление, она ни к чему не пригодна. Невозможно включить произведение искусства в практическую деятельность, не разрушив его как Вещь.
Фотограф, художник, коллажист Валентин Симанков в своих работах, выполненных в смешанной технике, возвращает вещам их подлинность и независимость. Его работы, состоящие из фрагментов собственных фотографий, проявленных самостоятельно, самым причудливым и импровизационным способом, из обрывков фраз, цветовых пятен загадочны и непроницаемы; кажется, что они не пропускают сквозь свои границы интерпретирующий разум.
Аристотель учил, что у всякого предмета есть четыре причины: формальная (что это?), материальная (из чего это сделано?), каузальная (как пришло в существование?) и телеологическая (ради какой цели существует?). В произведении искусства телеологическая причина заключается в самом существовании вещи — оно существует лишь ради того, чтобы быть, а каузальная причина затемнена, ведь акт творения, даже в самых рациональных искусствах, полностью необъясним, в нем свершается какая-то тайна, какая-то стихийная импровизация, какой-то избыток, который обеспечивается сложным и практически непрослеживаемым взаимодействием индивидуальной истории и характера художника с объективными данностями и механизмами культуры. На первый план в произведении искусства выходит органическое единство формального и материального, "что" и "из чего" нераздельны, слиты. Художественные артефакты Симанкова удовлетворяют этому наблюдению: их возникновение кажется чудесным и непостижимым, мастерство художника скрывает все технические приемы в самом результате. Его фотоколлажи, как кажется, существуют не ради украшения или наслаждения, но как самостоятельные единицы, в которых их форма и многообразный материал сплетены воедино - в гармоничную, богатую, внутренне насыщенную и напряженную целостность.
Художественные Вещи Валентина Симанкова таят в себе урок: существование не нуждается в цели и не обязано искать опору в причинах своего существования. В хаосе и суете повседневности мы привыкли оправдывать наше существование чем-то внешним — целями, мечтами, смыслами, превращая жизнь в призрак, нечто, что существует ради иного. Однако же жизнь замкнута, цельна и обособлена, вне жизни нет ничего и нет ничего, к чему бы ее можно было прислонить. Независимые, самодостаточные произведения Симанкова, тёмные и глубокие в своей пестроте, как кажется, существуют лишь ради самого существования — и это высший род esse, которому мы можем научиться у Вещей искусства.
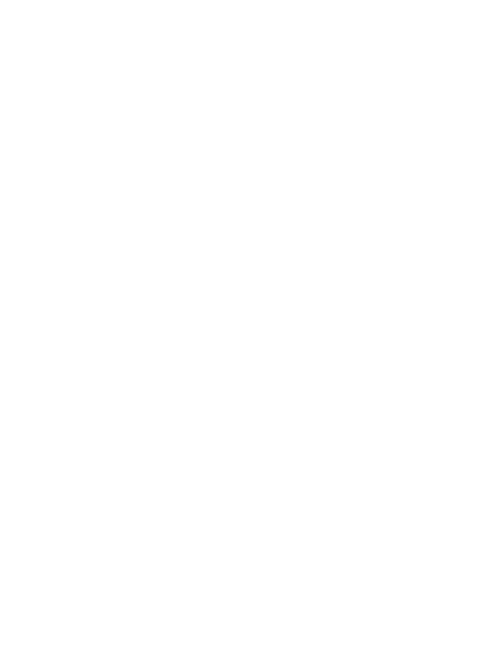
Аутоэстетика: Elina Doll
Несмотря на то, что искусство, ориентированное на контекст и развитие объективных идей, имеет высокий коммуникативный потенциал, так как вовлекает в эстетические мышление некий общий для всех современников опыт, искусство субъективное, в отличие от него, способно на пронзающий укол. Оно способно приоткрыть завесу над тайной "бытия Другим". Punctum субъективного искусства, т.е. его жало, метит в самую сердцевину личности — туда, где наш восторг существования сплетается с травмой, где сталь оснований нашей личности встречается с фарфоровой хрупкостью и уязвимостью. Если объективное визуальное искусство можно сравнить с музыкой Баха или некоторыми произведениями Пауля Хиндемита, то субъективное искусство — это, к примеру, сложный, раненый, противоречивый и динамичный лирический герой симфоний Густава Малера или последних сочинений Чайковского.
Безусловно, всякое произведение искусства, даже субъективного, лишь отчасти аккумулирует взгляды, идеи, намерения автора. Часто произведение — это черный ящик, иероглифическая вязь, в смысл которой невозможно проникнуть. Завершенное, отделившееся от художника, оно начинает свой собственный путь. Вокруг него, благодаря герменевтическому и эстетическому труду зрителей, кураторов, критиков, начинают возникать ауры интерпретаций. Поэтому даже произведение пронзительное, эмоциональное имеет свои тайные стороны, оно опирается на механику объективных машин дискурса, стиля, в нем развиваются и играют абстрактные художественные идеи, которые обнажаются в акте интерпретации. Интерпретация же как истолковывающее творчество обеспечивает отсутствие монолитного, единственного верного смысла произведения искусства. Восприятие творения скорее игра, чем раскопки, скорее импровизация и каскад творческих фантазий, чем археология смысла.
Графика художницы, тату-мастера и мастера-кукольника Elina Doll принадлежит скорее к описанному выше субъективному полюсу континуума искусства. Несмотря на яркий, своеобразный, четкий, контрастный стиль её работ, четко очерченный, узнаваемый, они до болезненности эмоциональны и непосредственны. Их мягкий эротизм скорее отсылает не к вечной борьбе Эроса и Танатоса, Желания и Угасания, но повествует историю открытости, уязвимости, чувствительности, оголенных, обнаженных чувств.
Ее вытянутых, тонких, вызывающих ассоциации с героями полотен Модильяни персонажей, окружают цветовой холод и вакуум. Они будто бы парят и устремлены куда-то, окруженные бесконечной пустотой, отмену которой символизирует жест касания. В этой поэзии образа — греза о человеческом единстве и единении перед лицом разрозненного, разорванного, пустого космоса. Хрупкость, ломкость очертаний персонажей считывается как открытость, как возможность коммуникации. Пустота и обесчеловеченность космоса отменяются надеждой и стремлением к человеческому теплу. Изолированность и своеобразие героев на рисунках Elina Doll — послание о мире, где субъективность всегда уникальна и где эта уникальность хоть и служит причиной изолированности, скрывает в себе возможность подлинного соприкосновения с Другим.
Графика Elina Doll — о человеческом, о чувствах, о движениях души, но эти субъективные стремления не обобщены и стереотипны, а индивидуальны. Содержание, смысл иногда кажется скрытым, потаенным, как это характерно для субъективного искусства. Речь субъективности, достигшей статуса обособленности и самобытности, то есть уровня личности, всегда закрыта, замкнута, так как ведется от лица цельного мира, чьи связи с другими мирами-монадами подвижны и нестабильны. Однако в этой тайной речи самозамкнутой субъективности — надежда на чудо единения и понимания, отменяющего космический холод изоляции и одиночества, который часто сопровождает жизнь художника.
Безусловно, всякое произведение искусства, даже субъективного, лишь отчасти аккумулирует взгляды, идеи, намерения автора. Часто произведение — это черный ящик, иероглифическая вязь, в смысл которой невозможно проникнуть. Завершенное, отделившееся от художника, оно начинает свой собственный путь. Вокруг него, благодаря герменевтическому и эстетическому труду зрителей, кураторов, критиков, начинают возникать ауры интерпретаций. Поэтому даже произведение пронзительное, эмоциональное имеет свои тайные стороны, оно опирается на механику объективных машин дискурса, стиля, в нем развиваются и играют абстрактные художественные идеи, которые обнажаются в акте интерпретации. Интерпретация же как истолковывающее творчество обеспечивает отсутствие монолитного, единственного верного смысла произведения искусства. Восприятие творения скорее игра, чем раскопки, скорее импровизация и каскад творческих фантазий, чем археология смысла.
Графика художницы, тату-мастера и мастера-кукольника Elina Doll принадлежит скорее к описанному выше субъективному полюсу континуума искусства. Несмотря на яркий, своеобразный, четкий, контрастный стиль её работ, четко очерченный, узнаваемый, они до болезненности эмоциональны и непосредственны. Их мягкий эротизм скорее отсылает не к вечной борьбе Эроса и Танатоса, Желания и Угасания, но повествует историю открытости, уязвимости, чувствительности, оголенных, обнаженных чувств.
Ее вытянутых, тонких, вызывающих ассоциации с героями полотен Модильяни персонажей, окружают цветовой холод и вакуум. Они будто бы парят и устремлены куда-то, окруженные бесконечной пустотой, отмену которой символизирует жест касания. В этой поэзии образа — греза о человеческом единстве и единении перед лицом разрозненного, разорванного, пустого космоса. Хрупкость, ломкость очертаний персонажей считывается как открытость, как возможность коммуникации. Пустота и обесчеловеченность космоса отменяются надеждой и стремлением к человеческому теплу. Изолированность и своеобразие героев на рисунках Elina Doll — послание о мире, где субъективность всегда уникальна и где эта уникальность хоть и служит причиной изолированности, скрывает в себе возможность подлинного соприкосновения с Другим.
Графика Elina Doll — о человеческом, о чувствах, о движениях души, но эти субъективные стремления не обобщены и стереотипны, а индивидуальны. Содержание, смысл иногда кажется скрытым, потаенным, как это характерно для субъективного искусства. Речь субъективности, достигшей статуса обособленности и самобытности, то есть уровня личности, всегда закрыта, замкнута, так как ведется от лица цельного мира, чьи связи с другими мирами-монадами подвижны и нестабильны. Однако в этой тайной речи самозамкнутой субъективности — надежда на чудо единения и понимания, отменяющего космический холод изоляции и одиночества, который часто сопровождает жизнь художника.
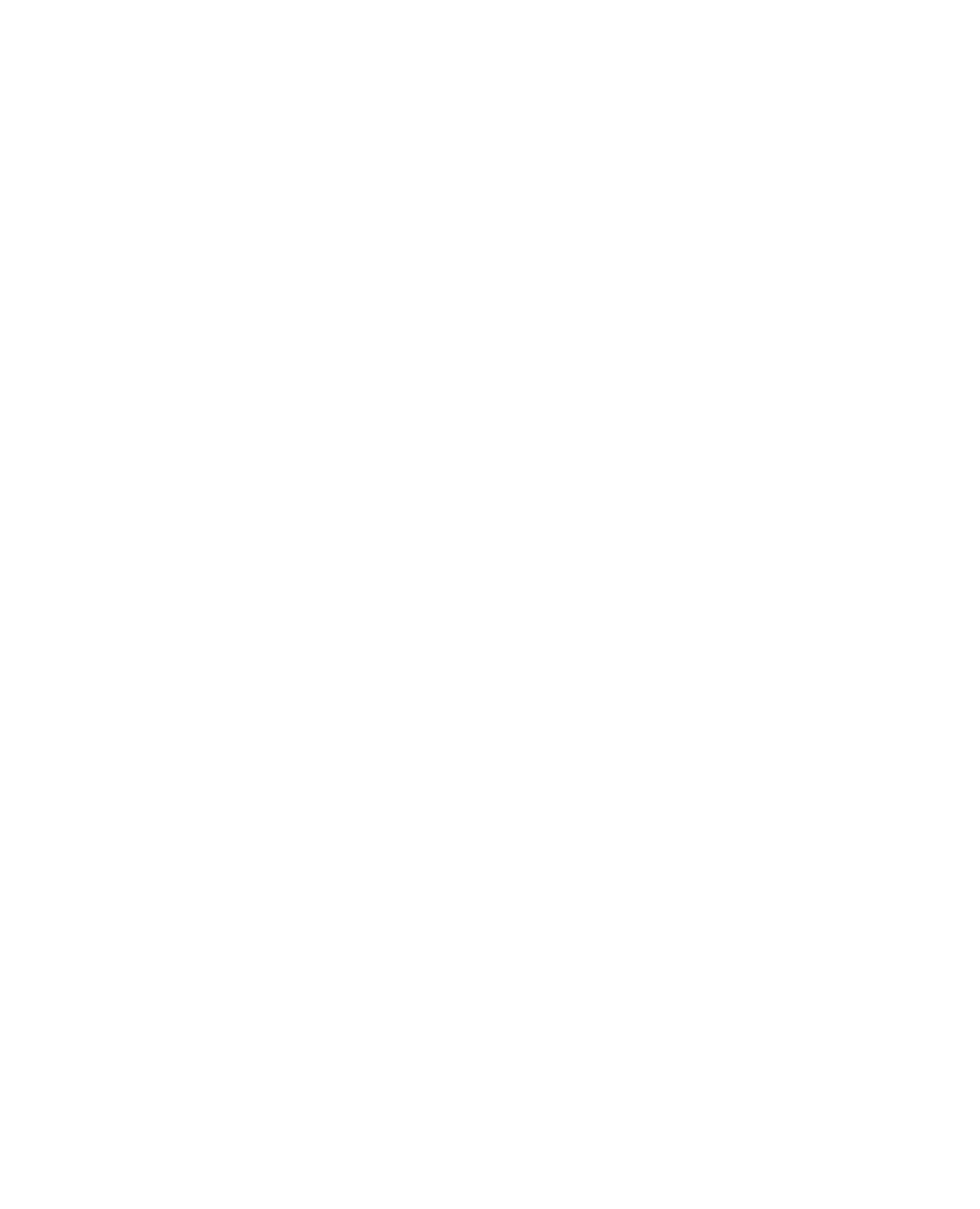
Аутоэстетика: Полина Соколова
Некоторые мои знакомые жалуются или с сожалением замечают, что не понимают современного искусства. Как мне кажется, это не повод расстраиваться и упрекать себя в недостаточной квалификации — уже для того, чтобы хотя бы понять, осознать, что тебе что-то неясно, незнакомо, уже требуется достаточно высокая компетенция и широта мышления. Более того, в случае с искусством непонимание совершенно естественно и является частью контекста встречи с произведением искусства. Всякое чудо начинается с удивления, всякий восторг - с jamais vu, с никогда не виданного прежде.
Вряд ли кто-то будет переживать, что не может понять впервые услышанный прекрасный и певучий чужестранный язык. Быть может, тона и звуки этого языка для слушателя будут сплетаться в особую музыкальную поэзию, высказывающую так много для сердца, но так мало и неразборчиво для ума, ведь измерение смысла будет для него принципиально недостижимо. Аналогично и с современным искусством, для которого уже трюизмом, вызывающим даже некоторое утомление, если не раздражение, стало утверждение новизны. Современное искусство вводит нас в чарующую ситуацию знакомства с "до этого невиданным", неизвестным — непонимание является самой честной, естественной, нормальной реакцией на эту ситуацию.
Вопрос не в непонимании - оно неизбежно, когда сталкиваешься с обособленными знаковыми системами, шифрами, которые подчас не имеют разгадки. Вопрос в том, что приходит после непонимания. Желание преодолеть непонимание, побыть с ним в контакте или же ресентимент, желание отомстить художнику, делегитимизировав его творчество отсылками на здравый смысл и расхожие установившиеся архаичные представления от искусстве? Быть может, верх возьмет желание выработать, выковать с помощью своей фантазии, с помощью погружения в символический контекст собственное понимание, совершить акт герменевтического творчества, засеять в почву догадки и интуиции, чтобы они пышно разрослись цветами и разнотравьем смысла. Тогда дискомфорт, беспокойство непонимания выступит вроде песчинки, вокруг которой устрица ума вырастит жемчужину. Быть может, ситуация разрешится принятием этого непонимания и уважительным сосуществованием с ним, в близости - в конечном счете, максимальной и непроницаемой тайной является наше собственное бытие или же мир. Тем не менее мы парадоксально есть его сердце, мы в пламенной близости и ледяной дистанции от него одновременно. Мы не способны разорвать связь с собой и с миром, лишь только в патологических состояниях, вроде последствий тяжело протекающей dementia simplex или энцефалитов, происходит эта утрата мира для личности и личности для себя. Непонимание произведения искусства подводит нас к осознанию того, что непонимание, удивление, завороженность загадкой — неизбежные черты и явления нашего обитаемого мира, нашего сознания.
В случае с живописью, язык тайны — это язык цвета и форма. Когда мир засыпает, когда разум и дискурсивное сознание охватывают грёзы, тогда пробуждается могущественный дух цвета. Кажется, что игра цветовых пятен, бликов, росчерков высказывает всё и одновременно ничего, её язык максимально абстрактный и всеобщий, однако ни один объект, ни одна вещь не попадает в сети понятий, сплетаемых этим языком.
Полина Соколова, художница-аутсайдер, участник проекта Аутсайдервиль, создает разнообразные по манере работы — от текстоцентричных коллажей, будто бы вышедших из-под руки сюрреалиста, до абстрактных картин. Последние вызывают ассоциации с работами европейских ташистов и американских абстрактных экспрессионистов, в частности Джексона Поллока, а также американских художников, работавших в технике "цветового поля" вроде Элен Франкенталер. Некоторые работы Соколовой заставляют вспомнить и о Герхарде Рихтере, европейском мастере абстрактной меланхолии. Однако художница сохраняет собственную индивидуальность, её работы имеют узнаваемый характер.
Абстрактные работы Полины Соколовой кажутся окном в незнакомый, своеобразный, чуждый мир стихии цвета, в котором действуют свои собственные законы и живут существа и сознания, совершенно непохожие на обитателей нашей Вселенной. В динамике контрастов и оттенков раскрывается какое-то сложное подвижное динамичное равновесие, т.е. устремленный процесс. Быть может, так могли бы выглядеть зафиксированные, вмерзшие во время самые начальные процессы в какой-нибудь Вселенной, последовавшие за Большим Взрывом, когда еще не образовались даже первые атомы и мир представляется из себя пылающую пульсацию кварк-глюонной плазмы.
Цвет — это чистый ужас, эссенция радости, концентрат печали, но все эти чувства в случае цвета будто бы уже освободились от своих носителей; они сталкиваются в виде абстрактных понятий и сил. Такое просторное, свободное пространство для игры стихийных, базовых элементов сознания, которым еще только предстоит сложиться в понятия, разворачивает Полина Соколова с помощью своих лирических абстракций. На ее полотнах цвет яростен и неприкрыт, непорочен, неотчужден, практически не встроен в образные системы — будто ртуть сырой, тяжелой, плотной речи на незнакомом языке, цвет втекает, вплетается в сознание зрителя, чтобы стать на миг его изнанкой и затем расцвести впечатлениями.
Вряд ли кто-то будет переживать, что не может понять впервые услышанный прекрасный и певучий чужестранный язык. Быть может, тона и звуки этого языка для слушателя будут сплетаться в особую музыкальную поэзию, высказывающую так много для сердца, но так мало и неразборчиво для ума, ведь измерение смысла будет для него принципиально недостижимо. Аналогично и с современным искусством, для которого уже трюизмом, вызывающим даже некоторое утомление, если не раздражение, стало утверждение новизны. Современное искусство вводит нас в чарующую ситуацию знакомства с "до этого невиданным", неизвестным — непонимание является самой честной, естественной, нормальной реакцией на эту ситуацию.
Вопрос не в непонимании - оно неизбежно, когда сталкиваешься с обособленными знаковыми системами, шифрами, которые подчас не имеют разгадки. Вопрос в том, что приходит после непонимания. Желание преодолеть непонимание, побыть с ним в контакте или же ресентимент, желание отомстить художнику, делегитимизировав его творчество отсылками на здравый смысл и расхожие установившиеся архаичные представления от искусстве? Быть может, верх возьмет желание выработать, выковать с помощью своей фантазии, с помощью погружения в символический контекст собственное понимание, совершить акт герменевтического творчества, засеять в почву догадки и интуиции, чтобы они пышно разрослись цветами и разнотравьем смысла. Тогда дискомфорт, беспокойство непонимания выступит вроде песчинки, вокруг которой устрица ума вырастит жемчужину. Быть может, ситуация разрешится принятием этого непонимания и уважительным сосуществованием с ним, в близости - в конечном счете, максимальной и непроницаемой тайной является наше собственное бытие или же мир. Тем не менее мы парадоксально есть его сердце, мы в пламенной близости и ледяной дистанции от него одновременно. Мы не способны разорвать связь с собой и с миром, лишь только в патологических состояниях, вроде последствий тяжело протекающей dementia simplex или энцефалитов, происходит эта утрата мира для личности и личности для себя. Непонимание произведения искусства подводит нас к осознанию того, что непонимание, удивление, завороженность загадкой — неизбежные черты и явления нашего обитаемого мира, нашего сознания.
В случае с живописью, язык тайны — это язык цвета и форма. Когда мир засыпает, когда разум и дискурсивное сознание охватывают грёзы, тогда пробуждается могущественный дух цвета. Кажется, что игра цветовых пятен, бликов, росчерков высказывает всё и одновременно ничего, её язык максимально абстрактный и всеобщий, однако ни один объект, ни одна вещь не попадает в сети понятий, сплетаемых этим языком.
Полина Соколова, художница-аутсайдер, участник проекта Аутсайдервиль, создает разнообразные по манере работы — от текстоцентричных коллажей, будто бы вышедших из-под руки сюрреалиста, до абстрактных картин. Последние вызывают ассоциации с работами европейских ташистов и американских абстрактных экспрессионистов, в частности Джексона Поллока, а также американских художников, работавших в технике "цветового поля" вроде Элен Франкенталер. Некоторые работы Соколовой заставляют вспомнить и о Герхарде Рихтере, европейском мастере абстрактной меланхолии. Однако художница сохраняет собственную индивидуальность, её работы имеют узнаваемый характер.
Абстрактные работы Полины Соколовой кажутся окном в незнакомый, своеобразный, чуждый мир стихии цвета, в котором действуют свои собственные законы и живут существа и сознания, совершенно непохожие на обитателей нашей Вселенной. В динамике контрастов и оттенков раскрывается какое-то сложное подвижное динамичное равновесие, т.е. устремленный процесс. Быть может, так могли бы выглядеть зафиксированные, вмерзшие во время самые начальные процессы в какой-нибудь Вселенной, последовавшие за Большим Взрывом, когда еще не образовались даже первые атомы и мир представляется из себя пылающую пульсацию кварк-глюонной плазмы.
Цвет — это чистый ужас, эссенция радости, концентрат печали, но все эти чувства в случае цвета будто бы уже освободились от своих носителей; они сталкиваются в виде абстрактных понятий и сил. Такое просторное, свободное пространство для игры стихийных, базовых элементов сознания, которым еще только предстоит сложиться в понятия, разворачивает Полина Соколова с помощью своих лирических абстракций. На ее полотнах цвет яростен и неприкрыт, непорочен, неотчужден, практически не встроен в образные системы — будто ртуть сырой, тяжелой, плотной речи на незнакомом языке, цвет втекает, вплетается в сознание зрителя, чтобы стать на миг его изнанкой и затем расцвести впечатлениями.
Юрий Виноградов — историк философии и музыкант-самоучка из Реутова. Юрий живет с хронической резистентной депрессией, которая глубоко и всесторонне влияет на его жизнь. Для него музыка — способ преодолеть ограничения его собственной биографии, пространство радости и свободы.
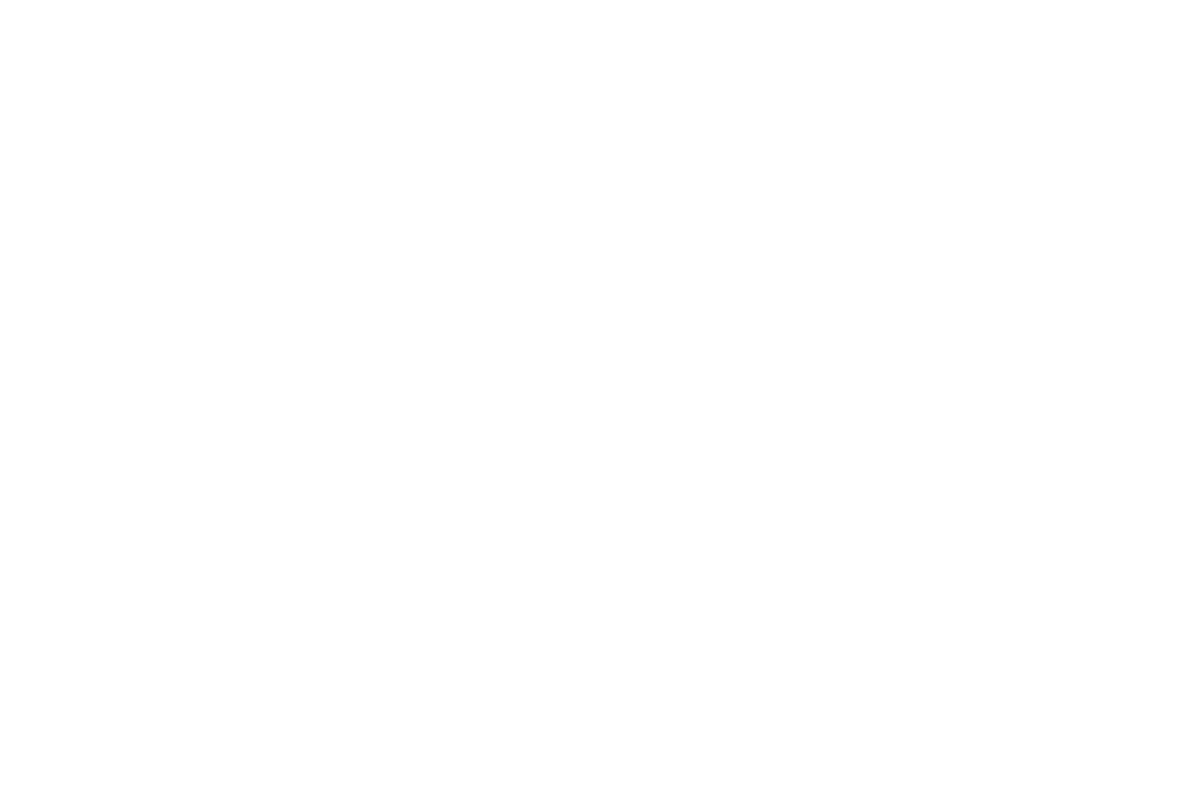
Юрий Виноградов - историк философии с классическим образованием и музыкант-самоучка / композитор / импровизатор из Реутова, Россия. Родился в 1985 году. Профессиональный философ-эпистемолог Юрий считает, что музыка - это не только предмет чувств, но и требует интеллектуального подхода как в слушании, так и в сочинении. Юрий глубоко интересуется современной академической и классической музыкой и композиторскими технологиями. Юрий начал заниматься музыкой в 14 лет. После нескольких лет занятий с частным преподавателем он начал импровизировать и сочинять музыку. Он никогда не изучал музыку в школах или колледжах, но в основном практиковал сам. Он научился играть на фортепиано, органе, басу и гитаре.
Юрий играл в различных панк-рок-группах и продолжал совершенствовать свои навыки импровизатора. Он увлекся классической музыкой, а затем и современной музыкой, особенно музыкой XX века - Шёнбергом, Веберном, Мессианом, Кейджем и другими. После получения образования историка философии он оборудовал домашнюю студию и начал записывать свои фортепианные импровизации и сочинять электроакустическую, электронную и психоделическую джаз-рок музыку.
Юрий считает музыку приключением, путешествием под инопланетным небом с незнакомыми созвездиями звезд на нем. В своих произведениях он выходит за рамки жанров, приемов и музыкальных эпох. В его музыке можно найти как ультрасовременное атональную интервенцию или алеаторические вихри, так и широкую, дышащую анахроническую мелодию. Он не выражает эмоции с помощью музыки, но позволяет звуковым структурам развиваться самостоятельно.
Юрий живет с серьезным хроническим депрессивным расстройством, которое во многом влияет на его жизнь. Музыка для него - это способ преодоления депрессии, это пространство радости и свободы.
Юрий играл в различных панк-рок-группах и продолжал совершенствовать свои навыки импровизатора. Он увлекся классической музыкой, а затем и современной музыкой, особенно музыкой XX века - Шёнбергом, Веберном, Мессианом, Кейджем и другими. После получения образования историка философии он оборудовал домашнюю студию и начал записывать свои фортепианные импровизации и сочинять электроакустическую, электронную и психоделическую джаз-рок музыку.
Юрий считает музыку приключением, путешествием под инопланетным небом с незнакомыми созвездиями звезд на нем. В своих произведениях он выходит за рамки жанров, приемов и музыкальных эпох. В его музыке можно найти как ультрасовременное атональную интервенцию или алеаторические вихри, так и широкую, дышащую анахроническую мелодию. Он не выражает эмоции с помощью музыки, но позволяет звуковым структурам развиваться самостоятельно.
Юрий живет с серьезным хроническим депрессивным расстройством, которое во многом влияет на его жизнь. Музыка для него - это способ преодоления депрессии, это пространство радости и свободы.
Скачать музыку и поддержать авторов можно на Bandcamp нашего лейбла
https://outsiderville.bandcamp.com/